Последний сон разума
— Ты хочешь знать, как быть, если что-то сделал не так? Отвечаю, детка: никогда не проси прощения. Ничего не говори. Посылай цветы. Без писем. Только цветы. Они покрывают все. Даже могилы.Эрих Мария Ремарк «Три товарища».
Эта неделя выдалась неделей чтения. За последние пять дней я прочитал роман «Последний сон разума» Дмитрия Липскерова, сборник рассказов Пелевина и четыре романа Эриха Марии Ремарка. Опять ездил в Красноярск; четырнадцать часов туда и четырнадцать обратно. Поезд — дивное место: куча народа, объединенных одной общей целью — как можно быстрей и безопасней убить пол-суток. Способы не отличаются особым разнообразием: чтение, разговоры, еда и сон. Вернее, еда, сон, разговоры и чтение. Через десять-пятнадцать минут после отправления поезда на народ нападает прямо-таки дикий жор и весь вагон дружно садиться трапезничать с таким аппетитом, будто не ели пару дней. После чего — либо спокойный послеобеденный сон, либо разговоры. На обратном пути «повезло» — рядом ехали три тетьки-мешочницы в Новосибирск «затариваться». Час на еду, пять — на сон, восемь — на разговоры, кто сколько трусиков / лифчиков / кофточек / рубашек купил — продал, сколько было заработано и на что потрачено. К концу пути хотелось перегрызть им горло. Парень на боковой полке полдороги спал, полдороги читал книгу с красочным названием «Стерва».
Я читал. Липскерова и Пелевина — туда, Ремарка — обратно.
Впечатления. «Последний сон разума» — «никакая» книга. Хотя и местами забавная. Но мне не понравилась. Что касается классификации книг, то у меня она такая: очень хорошая книга, хорошая книга, «никакая» книга и полное дерьмо. Под два последних определения у меня попадает большинство книг; книги, которые можно читать, но которые оставляют меня фригидным, подпадают под категорию «никаких»: к ним относится практически весь Лукьяненко, Фрай и куча всего, что у остальных людей считалось бы «неплохими книгами».
«Хороших книг» для меня очень мало, а «очень хороших» — вообще единицы. Две единицы ;)
Помимо того, есть внекатегориальная группа — «забавно». Асприн, к примеру, это «забавно». Пелевин (впрочем, о нем — позже) — тоже «забавно». Просто «забавно». «Никак», но «забавно».
Не было бы так забавно, было бы вообще «никак», то есть дерьмo.
Липскеров. Дмитрий. «Пространство Готлиба», «Сорок лет Чанчжоэ» и «Последний сон разума» — три романа, которые я у него читал. Хотелось бы сказать «спасибо» Михаилу Галушко — это он, озаботясь уровнем моей начитанности, дал прочитать этого автора. Спасибо.
Тем не менее, Липскеров — это просто «забавно». «Сорок лет...» сильно смахивает на «Сто лет одиночества» Маркеса. «Готлиб» — бред и пелевищина, «Последний сон» — очень никакая книга. Я бы даже назвал ее дерьмовой, но не хочу обидеть тех, кому она нравится. Просто МНЕ не очень понравилось. И я попытаюсь объяснить, почему. По порядку. Для тех, кто собирается прочитать этот роман, дальше лучше не смотреть — иначе все удовольствие от прочтения будет испорчено. Я вас предупредил.
Итак, конец. Конец в романе сильный и неожиданный. Последние две страницы переводят роман из раздела «полное дерьмо» в раздел «забавно». Все. Больше в романе нет ничего хорошего. Конец выдержан в духе Пелевинских рассказов: все повествование переворачивается с ног на голову и остается там еще несколько минут после прочтения, пока мозг переваривает полученную подножку. Для рассказов и новелл это очень неплохо — пять минут тратится на прочтенье новеллы, и еще пятнадцать на осмысление нежданного-негаданного конца и возгласы «ай да автор, ай да сукин сын!». У Липскерова все по-дугому — полтора-два часа на прочтение романа, десять минут на то, чтобы обозвать автора сукиным сыном и вся оставшаяся жизнь на то, чтобы никогда не возвращаться к этой книге.
Сильный конец, но не «романный».
Коротко о фабуле: Татарин Илья торгует в магазине рыбой. Жизнь у него не сложилась. В детстве он пошел купаться с девушкой, которую любил и она утопла. После чего у него и не сложилась жизнь. Это завязка. После чего идет много-много бреда с привлечением разных героев, тесно взаимосвязанных друг с другом и разными фантастическими событиями: татарин превращается то в рыбку, то в птичку, то в таракана; встречает свою умершую возлюбленную в виде рыбки, птички и стрекозы, оплодотворяет ее в виде рыбы, она откладывает икру, из которой вылупляется сто младенцев, этих младенцев после их вылупления и выхода из пруда злые вороны заклевывают насмерть, остается только трое... и так далее... В общем, идет много-много бреда, заставляющего сильно усомниться в нормальности автора. В общем, «пелевинщина».
В качестве лирического отступления. Мама нашла у меня на полке Пелевина и взялась почитать какой-то рассказ. Я с удовольствием стоял рядом и наблюдал соответствующие состояния, которые бывают у всех, «севших» на Пелевина. Обычно люди застревают на каком-то одном из них. Я стою радом и по маминым вопросам сужу по ее состояниям: — А кто это вообще такой? (состояние первое) — Супер-модный писатель.
Спустя некоторое время: — А он вообще психически нормальный? (состояние второе) — Нет
Мама доходит до конца рассказа. Обдумывает. Внезапно находит в Пелевине небывалую глубину и тайный эзотерический смысл и начинает испытывать к нему даже симпатию (состояние третье).
Итак, «Последний сон» читается на втором состоянии — на состоянии сомнения в авторской нормальности. Кто-то, возможно, читает роман исключительно ради бреда и пытается расшифровывать его, как песни Гребенщикова. Следует признать, что бред хорош, и не поддается расшифровке, как и песни БГ.
Ближе к концу высказывается в общем-то довольно старая концепция, что в момент смерти мозг из-за недостатка кислорода начинает глючить по-черному и все эти белые туннели после смерти, ангелы и прочее — «последний сон разума». Причем из-за субъективного восприятия времени во время сна последний сон может длиться очень долго.
И после огромного количества бреда, когда автор уже прочно записан в сознании читателя в дурдом, идет новелловский конец...
Напомню начало: «Татарин Илья торгует в магазине рыбой. Жизнь у него не сложилась. В детстве он пошел купаться с девушкой, которую любил и она утопла. После чего у него и не сложилась жизнь.» Потом — огромная порция бреда. На последних двух страницах оказывается, что Татарин Илья в детстве пошел купаться с любимой девушкой, после чего утонул ОН, а не девушка, и ВЕСЬ РОМАН — это предсмертный бред (aka «последний сон разума») татарина, а его девушка осталась жива и плачет по нему. Весь бред спихнут на татарина, автор снимает с себя подозрение об умственной неполноценности и роман сразу приобретает пресловутое «двойное дно», тайный смысл «и все такое».
Итого — это «не мое». Не люблю читать бред татаринов. К этому я абсолютно фригиден.
Про Пелевина и Ремарка — позже. Но Ремарк — это хорошие книги...
Антиутопии
— Алло! У меня в огороде гигантская серая мышь рвет хвостом овощи.
— И что она с ними делает?
— Вы не поверите...
(Из книги «Слоны для чайников»)
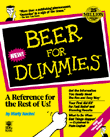 Люблю я иногда смотреть дешевые американские комедии — в них иногда появляется что-то новое. Дорогие — нет. В дорогих комедиях нет ничего нового — дорогие, хорошие и популярные актеры, дорогой сценарист, использующий, тем не менее, стандартные сюжетных ходы в сценарии... Дорогие спецэффекты... Смотрел фильм «Стюард Маленький». Через 15 минут, проснувшись, выключил телевизор.
Люблю я иногда смотреть дешевые американские комедии — в них иногда появляется что-то новое. Дорогие — нет. В дорогих комедиях нет ничего нового — дорогие, хорошие и популярные актеры, дорогой сценарист, использующий, тем не менее, стандартные сюжетных ходы в сценарии... Дорогие спецэффекты... Смотрел фильм «Стюард Маленький». Через 15 минут, проснувшись, выключил телевизор.
Позже вечером (часа в три ночи), смотрел по ящику совершенно дебильную комедию — названия не помню, сюжет — тоже смутно, единственное, что я запомнил — героиня вызывает дух умершего маньяка, используя книгу «Voodoo for dummies». (Вуду для чайников). Вот тут я лег...
Вообще, серия «для чайников» — это жуть. Ну ладно бы «Виндоз для чайников», но есть, оказывается, совершенно дикие книги: «Собаки для чайников» или даже «Пиво для чайников». Сначала я думал, что это прикол. Оказывается, книга «Пиво для чайников» действительно существует, и рассказывает она о разных сортах пива, о том, как его правильно пить («Открыть бутылку, выпить пиво, сдать бутылку»)...
Вот ведь великая американская нация...
Читал Хаксли. Много думал. Пока что прочитал «Контрапункт», «Дивный новый мир», «Желтый кром», «Шутовской хоровод», «Обезьяна и сущность», «Гений и Богиня». Весь ужас в том, что скоро все написанное Хаксли кончится, и читать будет нечего...
Да, сегодня же мне высказали, что я плохой критик, так как излагаю даже не оценки, а субъективный эмоции от произведения. Нет, я бы мог написать неплохую критическую статью по творчеству Хаксли, но не буду. Во-первых — лень. Во-вторых — не мой жанр. В-третьих — зачем нужно в-третьих, когда есть во-первых и во-вторых? ;)
Читал предисловие к Хаксли. Написано какой-то женщиной. Бред полный. Ну во-первых, «В антиутопии „Дивный новый мир“ Хаксли собрал отрицательные стороны капиталистической и социалистической системы». Бред полный. Старик Олдос не ходил с сумочкой и не собирал туда недостатки систем, как грибы, стремясь выбрать, что похуже. Антиутопии — один из моих любимых жанров — пишутся не так. Антиутопии — это всегда предупреждения, они доводят идеи не до абсурда, как легко можно было бы подумать, а до естественного конца. Именно поэтому антиутопии так пугающе правдоподобны и так давят на психику — возьмем, к примеру, «1984». Сказать, что Оруэлл выбрал худшие черты тоталитарной системы — думаю, не совсем правильно; он просто довел их до логического завершения.
Сейчас я пишу эти сроки, а то телевизору идет старый советский мультфильм (1979 год) — тоже своего рода антиутопия — заказная антиутопия на запад — буржуй во фраке и черных сапогах, с тремя двойными подбородками и непременно с сигарой. Обязательно стройный умнорожий представитель угнетаемого класса. Очень вычурный, грубый и примитивный мультфильм. Здесь — можно говорить о «выборе худших сторон капиталистической системы».
Любая антиутопия — это такая же система, как и утопия, только если в утопии автор говорит: «Посмотрите, какая замечательная система, как она слажена и настроена, как она замечательно работает», то в антиутопии, собственно, говорится то же самое: «Посмотрите, какая замечательная система, как она слажена и настроена, как она замечательно работает», с той лишь разницей, что в случае с антиутопией эта система хоть и кажется нам слаженной, но «не совсем правильной».
«Дивный новый мир» (Brave new world) Хаксли — это сложенная, исправно действующая система... Никогда не увлекался пересказыванием фабулы произведения, так как не считаю это стоящим занятием. Говорить общие фразы — банально, а что-то более конкретное можно говорить только, когда все читатели «Спектатора» прочтут «Дивный новый мир».
Так что ждем-с :)
И разумеется, ни в одной уважающей себя антиутопии нет happy end’а — его отсутствие такой же признак жанра, как присутствие его же в дешевых мелодрамах. Оно и понятно — как известно, чтобы составить объективное суждение о системе, нужно быть вне ее — в антиутопиях «внешним элементом» является либо человек извне («Машина времени» Уэлса), либо человек вовне, но «не от мира сего», противопоставляющий каким-то образом себя Системе.
Собственно, герою «Машины времени», являясь «человеком извне» удалось вовремя слинять (живым и относительно невредимым) именно потому, что он «извне», тогда как проблема противопоставления решается идеально просто — уничтожением более слабой стороны.
«Он пробовал на прочность этот мир каждый миг — Мир оказался прочней.»
Критика вообще сродни пережевыванию пищи — когда читаешь книгу, то бессознательно жуешь ее и, пережевав, проглатываешь. Критика — то же пережевывание, только вместе проглатывания приходится с силой выплевывать из себя уже начавшие перевариваться куски, красиво раскладывать их на блюде литературы и преподносить читателю в форме аппетитного и легкоусвояемого текста, служащего аперитивом к критикуемому произведению.
Нехило я завернул, а? ;)
Снег был похож на наждачную бумагу...
Cнег был похож на наждачную бумагу — такой же черствый и такой же серый. Растопленный, он давал мутную жидкость, скрипящую на зубах и пахнущую дымом. Но пить не хотелось — хотелось закутаться в остатки матраса, лечь и не шевелиться долго-долго. Собственно, именно этим Николай и занимался — тихо лежал в полузабытьи на куче грязных тряпок.
Вывести его из этого состояния мог только тихий плач младенца, доносившийся из картонной коробки. Плач быстро переходил в звуки, больше напоминавшие скулеж собаки, и тогда приходилось снова вставать и разогревать молоко. С молоком ему повезло — в разграбленном продуктовом магазине он нашел несколько ящиков — холодные кирпичи пакетов с надписью «Молоко». Никто не позарился — тащить замерзшие куски льда, а потом растапливать — себе дороже. Обычно ищут мясо. Колбасу. Сыр. Хлеб. Водку. Водка не замерзает.
Ребенок заскулил в очередной раз. Разорвав пакет, Николай швырнул ледяной кирпич молока в кастрюлю. Подбросил к костер пару досок. С ребенком Николаю не повезло — он его тоже нашел. В чьей-то квартире. Вообще, ходить по квартирам было опасным и бесполезным занятием — все, что было ценного разграбили и унесли в первые две недели. Продукты и одежду — позже. Зато можно было наткнуться на таких же, как он неудачников, обходивших полупустые квартиры в поисках еды; деньги, золото и ценные вещи даже и не искали — уже было незачем. Подобные встречи редко бывали дружественными и кому-то приходилось отдавать все, иногда вместе с жизнью.
Ребенок неподвижным свертком — поначалу Николай даже не понял, что это такое — лежал на абсолютно голом столе. Ярко-розовое одеяльце казалось вещью из другого мира — до такой степени глаза привыкли к серой пыле, покрывавшей, казалось, все в этом мире. Судорожно развернув сверток, Николай увидел ребенка. Постоял, глядя на неподвижное личико, двумя движениями закутал обратно и пошел к выходу. И тогда ребенок вдруг заплакал.
Плач ребенка в очередной раз вывел Николая из полузабытья. Он поднялся и пошел в угол, где стояли продукты. Еще четыре пакета молока. Шесть «килек в томатном соусе». Полбутылки спирта. Напоив ребенка молоком, Николай с протяжным скрипом отворил дверь и вышел из подвала — искать еду. Два дня назад удалось поймать голубя. «Поймать» — сказано чересчур громко — голубь стоял неподвижно, изредка моргая глазом и на приближение Николая никак не среагировал — только заморгал еще быстрее и издал странный клокочущий звук. На вкус голубь оказался ничуть не хуже курицы...
Город представлял собой жуткое зрелище — все дома уцелели, разве что витрины в магазинах были местами побиты. Пугало другое — полное отсутствие людей. Когда Николай был маленьким, у него была мечта — проснуться рано утром, выйти на улицу и обнаружить, что все люди куда-то исчезли. И тогда бы он ходил по магазинам, понабрал бы себе самых лучших игрушек. Наелся бы мороженного. Похулиганил бы. Только одно условие — на следующий день все снова должны были появиться. И не спрашивать Коленьку, откуда у него столько новых игрушек.
Но на этот раз люди не появлялись — мечта сбылась лишь наполовину. Да никуда они и не исчезали — просто падали и оставались лежать в колючем сером снегу.
Зима длилась уже не первый год, что, впрочем не так уж и странно для ядерной зимы, но привыкнуть к холоду Николай до сих пор не мог; единственным спасением были сон и еда.
Еда. На огромном острове, где жил Николай просто не было еды — кошек, собак и крыс съели быстро. Один раз он видел, как двое разделывали труп человека — сначала ему показалось, что они его просто обыскивают, но когда один из них замахнулся и в воздухе что-то блеснуло — Николай все понял. Тихо, бочком зашел в ближайший подъезд и простоял там часа два, прислушиваясь к тяжелым ударам собственного сердца. Выходя из подъезда, Николай вдруг резко согнулся и его вырвало желудочным соком.
Пару раз он ходил на пристань. Несколько трупов, наполовину вмерзших в лед. И никаких кораблей.
Войдя в продуктовый магазин через разбитую витрину, Николай привычно сходил на склад, поковырялся под прилавками, открыл холодильники. Ничего. Пустовал даже отдел с кормом для собак. На обратом пути он зачем-то ткнул кассу. Автомат тихо звякнул, открыв свое содержимое. Деньги. Николай аккуратно, бумажку за бумажкой собрал холодные купюры, пересчитал — ровно четыре тысячи триста сорок рублей, швырнул вверх и молча вышел. Потом вернулся, потоптался на упавших купюрах, вспомнил маму и господа Бога. И снова вышел.
Сегодня он опять ничего не нашел — желудок упрямо бунтовал, когда Николай вспоминал о «кильках в томатном соусе» — этих килек был целый ящик, и постепенно начиналось казаться, что всю свою сознательную историю человечество питалось исключительно кильками.
Уловив боковым зрением какое-то движение справа, Николай резко повернул голову и замер. Собака. Не просто собака — теленок. Огромный черный пес неизвестной породы. Николай молча смотрел, пытаясь прикинуть, сколько в нем мяса. И как его поймать. Так они и стояли друг напротив друга на расстоянии в несколько метров. Стояли долго, пока Николай не подумал, что противная псина, возможно, думает о том же — сколько в нем мяса. Мысли поскакали одна за другой. Всех собак давно съели. Эту черную гадину — нет. Значит, его либо не заметили, что при таких размерах просто невозможно, либо не смогли справится, либо...
Мерзкий пес удивительным образом прибавлял в размерах — только что это был просто огромный пес — и вот он уже размером с хорошего коня. Собака продолжала расти и в ее глазах Николай ясно видел человеческий голод, глубокую тоску и холод. И тогда он побежал, что-то крича и всхлипывая. Пес, постояв несколько секунд, сорвался с места и огромной черной тенью заскользил за человеком.
Каким-то чудом Николай добежал до своего подвала до того, как его догнал пес. За железной дверью сразу стало спокойней, но Николай сгреб все ящики в кучу и стал заставлять ими проход, не переставая всхлипывать. Слезы катились по его щекам.
Теперь он совсем не спал — на улице выл пес и царапался в дверь. Стоило Николаю закрыть глаза, как ему начинало казаться, что мерзкая тварь вот-вот процарапает железную дверь и ворвется внутрь.
Килька кончилась быстро, и не смотря на то, что она вызывала в желудка настоящую бурю, без нее было еще хуже. Ребенок стал плакать реже, но каждый раз услышав его тихие завывания, псина за дверью начинала подвывать и скоблиться в дверь. Николай холодел и кидался разогревать молоко — теперь от добавлял туда пару капель спирта — ребенок засыпал быстро и спал долго, да и молока уходило значительно меньше.
Две недели прошли, как в бреду. В последний раз ребенок плакал дня три назад, но время уже не воспринималось как что-то реальное. С голода у Николая начались галлюцинации — в углу сидел огромный черный пес со светящимися глазами. Поначалу это пугало, но скоро Николай привык и даже начал с ним разговаривать. Пес слушал молча, лишь изредка начинал подвывать в такт словам, и тогда Николай вздрагивал, пес исчезал, а вой продолжал доносится, но уже из-за двери.
Ребенок снова заплакал. Николай долго не мог понять, что это за звук, несколько минут ходил по подвалу, пока не понял, что звук доносится из свертка. В свертке лежало несколько килограммов мяса. Мясо как-то странно дергало ручками и ножками. Николая это нервировало. Все мясо, которое он ел, всегда лежало неподвижно и не издавало никаких звуков.
Постояв еще несколько минут, Николай взял ребенка за ноги, лениво размахнулся ударом об стену размозжил ему голову.
Спасти удавалось немногих — остров вымер, но живых людей все еще находили, поэтому вертолеты все еще летали, спасатели с материка все еще ходили по квартирам и искали.
Около одного дома спасатели набрели на невероятных размеров черную собаку. Она все еще была жива, увидев людей, кинулась к ним, ткнула свою морду в руки и тихо заскулила. Несмотря на огромные размеры, псина настолько исхудала, что весила не больше двух килограммов — ее подняли на руки и посадили в вертолет. В том же доме нашли забаррикадированный подвал. Когда дверь наконец-то удалось взломать, на полу нашли мертвого мужчину. На лице его застыла улыбка. В руках он сжимал невообразимо-яркое розовое одеяльце.

