Smells like teen spirit
Я посмотрел немного Игоря Погодина, не только же Ялома читать!
Ой, Ялом вообще вызывает бурю эмоций. Вот сидим сегодня на кухне...
Впрочем, нет, начнем еще раньше.
Меня в последнее время много троллят, что совершенно не удивительно: я на старости лет сошел с ума, а общество должно спасать своих членов.
Но троллинг — это тоже диалог, а я ведь мастер коммуникации. Вот, например, релевантный диалог:
— У меня другой вопрос к Диме, как психотерапевту! Если на вопрос «вы хотите об этом поговорить», девушка отвечает терапевту «нет», он на это реагирует, как на нет, или да?
— Ну, когда терапевт задает такой вопрос девушке, то он, очевидно, не на работе. А не на работе терапевтам позволяется вести себя, как обычным людям. Если он мужская шовинистическая свинья, то реагирует, как на «да». А если нет, то нет.
— А почему это он на работе такой вопрос не задает?
— Потому, что он не может быть одновременно на работе и в анекдоте.
И — обратно на кухню. Сидим сегодня на кухне, говорю Кате, что терапия прекрасна и ужасна тем, что каждый случай уникален, и каждый отдельный клиент — это вообще совсем другая терапия. Схемы, приемы и разные прочие «знания» не помогают, даже если ты «знаешь», что с ним «не так».
Это ужасно тем, что ты постоянно находишься в точке роста, в точке неопределенности, где есть простой, но неправильный способ обезопасить тебя — спрятаться за приемами и бумажками.
Это прекрасно тем, что на всех других работах я больше всего изнывал от рутины, а тут — если все делать правильно — ее не предвидится. Каждый клиент — уникальная снежинка.
(Роджерс писал, что как только терапевту «все понятно» про клиента, можно смело паковать вещи и уходить из профессии).
То есть, это ужасно и прекрасно по одним и тем же причинам!
И — обратно к Ялому.
Поговорил с Катей на кухне о том, что люди и их терапии уникальны, открываю Ялома, а там:
По самой своей сути, ход терапии должен быть самопроизвольным, всегда следующим по непредвиденным руслам... Наверное, я несколько преувеличиваю, однако убежден, что кризис, переживаемый сейчас психотерапией, настолько серьезен, а спонтанность терапевта находится в такой опасности, что требуются радикальные коррективы. Нам следует идти даже дальше: терапевт должен бороться за создание новой терапии для каждого пациента.(курсив не мой)
Сразу захотелось поехать в Сан-Франциско и обнять этого старичка, пока он еще жив. Потому, что нет ничего приятней, чем сначала обдумать тему. а потом прочитать те же выводы у мэтра. Нет, дело не в моем величии и яломоподобии, просто это — идеальный процесс обучения для меня.
И возвращаясь к Погодину. Посмотрел несколько его видео, ничего теоретически-нового не узнал, но разбор реальных случаев всегда интересен, даже если они анекдотические.
Так, например, к нему пришел человек с проблемой «нет женщины». Погодин его ммм... посмотрел? Вы сейчас поймете сложности с выбором глагола.
Погодин его посмотрел, немного подумал, много попереживал и, наконец-то, сказал «простите, но от вас же ужасно пахнет!».
Оказывается, все об этом знали, но все боялись сказать. Неприлично же. А клиент сам не знал, ему же никто не сказал, а свое не пахнет.
Ну и все, одной сессии хватило.
Клиент помылся и зажил счастливо.
У меня сразу много выводов, и все они шуточные. Например, «вот, реальный случай, когда консультации именно по скайпу не помогут». Или, например, «если одной сессии вам не хватило, то радуйтесь, от вас не пахнет, проблема не так проста». Ну, при условии, что консультации не по скайпу. То есть, тут надо выбирать, либо первая шутка, либо вторая.
Опять эта гнетущая тяжесть выбора!
И про «клиента». Многим терапевтам не нравится это слово, а никакого другого нет. Я пробовал придумать новое название в фейсубке с помощью друзей, но все варианты не выдержали критики, потому что не подразумевали равноправие (а терапия — это сотрудничество, а не «один лечит другого»).
Жюри (в составе меня) признало лучшим мой же вариант: «сообщники». Он подразумевает сотрудничество и терапевтическую тайну.
Сегодня читаю Ялома (я уже утомил вас им, да?), так он выбирает для этого слово «попутчик».
Я предпочитаю видеть себя и своих пациентов как «попутчиков». Этот термин уничтожает различие, стирает грань между «ними» (страдающими) и «нами» (исцеляющими). Во времена студенчества я склонялся к идее вселечащего терапевта, но по мере того, как я взрослел, создавал тесные, дружеские отношения с коллегами, встречался с пожилыми мэтрами, был призван оказать помощь моим бывшим терапевтам и учителям, а затем и сам стал наставником и старшим товарищем, я был вынужден постигнуть всю мифическую природу этой идеи. Мы все вместе принимаем участие в процессе: здесь нет ни терапевтов, ни людей, которые были бы неуязвимы перед лицом трагедий, просто неотъемлемых для человеческого существования.
В русском переводе — так, что наводит нас на шутку о «случайном попутчике» — человеке, которому можно открыться, зная, что никогда его больше не увидишь (терапевту можно открыться зная, что это его работа, то есть, терапевт — это неслучайный попутчик).
В английском оригинале использовано слово companion, что в очередной раз отсылает нас к безумной шутке про Доктора Кто, у которого тоже были компаньоны.
(Эта шутка — на самом деле вовсе не шутка, но лень объяснять, почему).
И вот еще картинка про разные виды терапии, тоже не шутка:
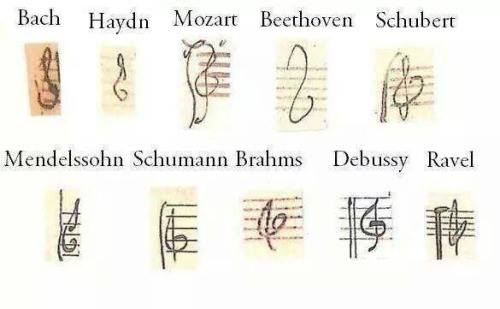
A возможно, и нет
Здесь возникает вопрос: возможно ли вообще освободиться от эмоциональных страданий в этой жизни? Или, в более мягкой форме: возможно ли развиться духовно до такого уровня сознания, на котором жизненные страдания хотя бы уменьшаются? На этот вопрос необходимо ответить и да, и нет. Да – потому что если страдание полностью принято, то в некотором смысле оно перестает быть страданием. Да – потому что неустанная практика дисциплины ведет к мастерству и духовно развитая личность является мастером – как взрослый человек по отношению к ребенку. То, что для ребенка составляет большую проблему и причиняет ему большую боль, может быть пустяком для взрослого. И наконец, да – потому что духовно развитая личность является, как мы увидим в следующей главе, необычайно любящим существом, а необычайная любовь приносит с собой необычайную радость.
Ответ, однако, гласит также и нет – потому что в мире существует вакуум компетенции, и этот вакуум должен быть заполнен. В мире, отчаянно вопиющем о компетенции, исключительно компетентная и любящая личность не может утаивать свою компетентность, как не может отказать в пище голодному ребенку. Духовно развитые люди, в силу своей дисциплины, мастерства и любви, являются чрезвычайно компетентными людьми и, как таковые, призваны служить миру. Как существа любящие, они отвечают на этот призыв. Поэтому они неизбежно становятся людьми большой силы, хотя мир обычно воспринимает их как людей обыкновенных, так как они используют свою силу спокойно или даже скрыто. Но как бы то ни было, они ее используют, а это невозможно без больших, часто разрушительных страданий. Ведь использовать силу означает принимать решения, а процесс принятия решений с полным осознанием обычно оказывается бесконечно болезненнее, чем принятие решений с ограниченным или притупленным осознанием (последний способ применяется чаще всего, поэтому такие решения в конечном итоге оказываются неправильными).
Представьте себе двух генералов, каждому из которых предстоит решить, посылать ли в бой десятитысячную армию. Для одного из них армия – просто вещь, единица счета личного состава, стратегическое орудие и ничего больше. Для другого армия означает то же самое, но он вдобавок помнит о каждой из десяти тысяч человеческих жизней и о жизнях десяти тысяч семей. Для кого из них решение окажется более легким? Конечно, для генерала с притупленным осознанием – именно потому, что он не выносит боли более глубокого и полного осознания. Возникает искушение воскликнуть: «Да никогда в жизни духовно развитый человек не станет генералом армии!». Но тогда то же самое можно сказать и о президенте корпорации, о враче, учителе, родителе. Всюду приходится принимать решения, влияющие на жизнь других людей. Лучшие из тех, кто принимает решения, – те, кто готовы больше других страдать из-за своих решений, но все же сохраняют способность принимать новые решения. Одной из мер – и, возможно, самой лучшей – для оценки величия человека является способность страдать. И все же великий означает также и радостный. Да, это парадокс. Буддисты как будто не знают о страданиях Будды; христиане забывают о радости Христа. Будда и Христос не были различными людьми. Муки Христа, идущего на крест, и радость Будды, идущего под дерево бо, суть одно и то же.
Таким образом, если вы поставили себе цель избегать боли и страданий, то я бы не советовал вам искать высших уровней сознания или духовного развития. Во-первых, вы не сможете достичь их без страдания. Во-вторых, если уж вы их достигнете, то будете призваны к служению, которое окажется более мучительным или, по крайней мере, потребует от вас больше, чем вы сейчас можете себе представить. Зачем тогда вообще стремление развиваться, можете спросить вы. Если вы задаете этот вопрос, значит, вы, скорее всего, плохо знаете, что такое радость. Возможно, вы найдете ответ, прочитав книгу до конца, а возможно, и нет.
Морган Скотт Пек, «Непроторенная дорога».
Самозванство
Обсуждали с Катей самозванство.
Вот Катя хочет работать с женщинами, а боится, что у нее нет бумажки «справка дана Екатерине в том, что она может работать с женщинами». Наверное, «работать с женщинами» — это слишком обтекаемо, но пусть будет так.
Пришли к тому, что самозванство имеет несомненный плюс — дает всю ответственность тебе.
«Я могу работать с женщинами потому, что я так сказала».
А клиент, в свою очередь, говорит «Я буду работать с Катериной потому, что я так решил».
(А то вдруг клиент — тоже самозванец, а вовсе никакой не клиент).
Оттуда, конечно, прямая дорожка к «где заканчивается самозванство и начинается сумасшествие?».
Но и здесь очень просто: сумасшествие начинается там, где тебя ловят и отвозят в специальное заведение.
Если ты не дурак, то до такого просто не надо доводить.
Если дурак, то там тебе и место!
То есть, сумасшествие — это ситуация, когда разрыв между тобой и социумом велик, ты не принял меры по устранению, а социум — принял.
Это также объясняет то, почему сумасшедшие шарлатаны любят всякие титулы: они «краешком ума» подозревают, что их самозванство зашло слишком далеко от реальности и пытаются приблизить реальность к себе, наполучав кучу «реальных» сертификатов и бумажек.
Я уже рассказывал, как мы отвели ребенка перед школой к дипломированному психологу, а та сказала, что ребенку в школу нельзя, потому что у него кармические связки из прошлых жизней, а нам с Катей надо пройти расстановки?
Самозванство же, если ты человек здоровый и, не побоюсь этого слова, «адекватный» — это такой способ сказать «я считаю себя способным для этой работы потому, что я так считаю».
(А еще был такой человек, Фердинанд Демара. Он всю жизнь развлекался тем, что был самозванцем, причем в сложных сферах — например, он выдал себя за хирурга, прооперировал дюжину человек, и они все выжили (и, видимо, поправились).
У него были свои мотивы, но самое главное — это то, что он от самозванства получал веселье, а не стресс).
В общем, это известная история: самозванцами считают себя обычно люди умные и самокритичные, классическое «я знаю, что ничего не знаю», а некомпетентные люди не понимают, что они не компетентны и радуются, так называемый эффект Даннинга — Крюгера.
(За этот эффект даже шнобелевкую премию дали, что подтверждает, что он — настоящий).
Говорю, мол, Катя, ты напиши свои услуги, а то потенциальные клиенты вообще ничего про тебя не знают.
Ну, дескать, я решаю такие проблемы: «потеря себя в браке, чрезмерное погружение в детей, чрезмерное погружение в мужа, чрезмерное погружение в бытовой алкоголизм, боязнь творчества, зависимость от мнения материи и подобное».
«Так это же то, что я прорабатываю!».
Ну, говорю, да! Будешь архетипический юнговский Wounded Healer во всей красе. Опыт же надо использовать. Пиши то, в чем ты сильна. Зато потенциальные клиентки посмотрят на список и скажут «о, это же про меня!» и пойдут.
Ушла писать список, заглядываю через плечо:
«Адаптация в ватной среде, проблемы белых людей, сексуальный терроризм, как жить с мужем-троллем».
Придумали с Катей СЖК.
Сакральный Женский Круг.
Ультра-радикальная женская лесбо-феминистическая партия СЖК (Сакральный Женский Круг).
Как всем психологам известно, «ватник» — это тот, кто верит во Внешнего Спасителя — могущественную фигуру, от которой все блага (и беды тоже).
(Использую термин «ватник» как актуальный в этом сезоне, за неимением лучшего).
Ватник верит в Путина, потому, что Путин — бог. «Если не Путин, то кто?».
Предположим, что Путин — не либерал. Тогда Путин тоже верит во Внешнего Спасителя. В таком случае, какие у него варианты? Он круче всех в стране, значит, спаситель не может находиться в этой стране. Значит, он за ее пределами. Путин наверняка не верит в «настоящего» бога потому, что вырос в КГБ.
Он не может поверить в Америку, как в Спасителя. Ну, по понятным причинам — эти суки понаобещали нам райские кущи, если мы примем демократию. И обманули!
С другой стороны, Америка может выступать в роли Внешнего Спасителя, но злого. В могущественного внешнего врага. В Бога, который тобой недоволен.
Таким образом, вся эта якобы мышиная возня с Крымом — и не возня вовсе, а драма эпических пропорций, в которой Человек рискнул бросить вызов Богу.
Чисто либеральная драма, кстати, что доказывает, что Путин — самая большая Личность в стране.
А то, что при этом «государство — это я», так это все чистая правда.
Государство — это он.
Угнать за 60 секунд
Обычные разговоры за пределами психотерапевтического кабинета напоминают словесный пинг-понг. Один собеседник говорит и делает паузу, второй подхватывает и останавливается, первый подводит итог и т. д. В обычном разговоре это приемлемо, однако в психотерапии, где основная цель — побудить клиента углубиться во внутреннее осознавание, это будет скорее контрпродуктивно. Во втором случае — особенно в самом начале работы — вербальную активность психотерапевта чаще всего стоит свести к минимуму так, чтобы клиент мог сосредоточиться на потоке своей субъективности.Бьюдженталь, «Искусство психотерапевта»
Все терапевты сходятся в том, что терапевту надо поменьше разговаривать.
Так и хочется добавить «и побольше слушать». Потому что, ну если не разговаривать, то что еще делать? И, казалось бы, нет ничего проще! «Просто заткнись и выслушай».
Но нет.
Слушать надо особым образом (это называется «присутствие»), который я не буду здесь описывать, но отсутствие которого очевидно. А если же, простите, присутствие присутствует, то это тоже ощущается.
Да, можно сказать, что присутствие выдает мимика, жесты и прочие невербальные способы. Наверное, так оно и есть. Но это — как разница между искренней и неискренней улыбкой. Присутствие сымитировать невозможно.
Я же хотел рассказать вовсе не о присутствии, а об не очевидных последствиях установки «говорить надо меньше».
Разговор на терапии — это ткань, которую создает клиент (и это буквальная метафора, слова «текст» и «текстиль» — однокоренные).
Пока клиент ткет, он находится «в потоке». Даже пауза в разговоре — это то место, где клиент ведет внутреннюю работу. Думает. Надо дать ему на это время, нельзя просто так удачно что-то ввернуть в паузу.
Надо дождаться, пока он додумает и «даст слово тебе», а делает он это часто тоже невербально.
Вот тут-то у терапевта и есть шанс!
Надо очень «компактно» высказаться, причем настолько компактно, чтобы не выбить клиента из его потока.
И главная сложность — это, естественно, тяжесть выбора.
Грубый пример: клиент сказал, что он испытывает такое-то чувство, связал это чувство с еще одной ситуацией, а потом упомянул бабушку. И дал терапевту слово.
Терапевт может выбрать что-то одно. Он может отправиться в погоню либо за бабушкой, либо за ситуацией, либо за чувством. Нельзя сделать так: «а давайте-ка разберем по пунктам».
Терапевт и клиент плывут вместе по реке на одной лодке и доплывают до развилки. Надо свернуть, но потом вверх по течению уже не поднимешься. «Нельзя в одну реку дважды» — это как раз про психику.
При этом терапевт говорит не «направо!», а «не хотите ли повернуть направо?».
Если у терапевта всего один шанс высказаться за сессию (особенно на первых сессиях так, смотри выше Бьюдженталя), то на этом шансе лежит «ответственность» за удачу целой сессии.
Тут, конечно, некоторые могут вспомнить дзен-учителей, которые парой фраз переворачивали мир учеников. Сравнение, возможно, уместно.
Пример из моей терапии. В которой я выступал, как клиент — поэтому публикуется с разрешения клиента.
Я сидел и убеждал терапевта в том, что расщепленность — это круто. Что у меня есть несколько частей, которые я могу переключать. Почти как независимые личности, но все еще не сумасшествие.
Он это все терпеливо выслушал и сказал «так это что, мне надо каждый раз спрашивать, с какой частью вас я сейчас разговаривал?».
И это меня излечило.
Проснулся на следующий день целостным человеком!
...ах, если бы это так и работало.
Если давать точное определение происшедшему, то «фраза мне понравилась». Я даже записал эту фразу — и опубликовал ее сейчас, много лет спустя.
И она, определенно сработала, но не мгновенно. Обладая сегодняшним опытом, я могу разобрать, как и почему она сработала.
Эта фраза натолкнула меня на следующую цепочку:
1. Я хочу, чтобы меня поняли. У меня есть такая важная потребность. Например, я удовлетворяю ее тем, что пишу в блог.
2. У меня есть потребность в безопасности, для этого субличности обычно и формируются.
3. Если я использую субличностей, собеседнику труднее понять меня, так как акт коммуникации нарушен. Ну не может же он, правда, каждый раз спрашивать, с какой частью меня он сейчас разговаривал? Что это за разговор такой? Вот, посмотрите, терапевт жалуется, ему тяжело! Впервые! Нашелся человек, который наконец-то, пожаловался! А что же вы, остальные-то, молчали?!
4. Таким образом, субличности вредят удовлетворению важной потребности.
5. Что важнее, эта потребность или безопасность (ради которой существуют субличности)?
6. К сожалению, эта потребность важнее.
7. Вывод? Субличностями можно пожертвовать, запускаем программу по их медленной переработке. Почему именно «медленной», а не «немедленной», думаю, очевидно. Мы же по реке плывем. Сегодня опустил в нее послание в бутылке — через месяц выловили ниже течения.
А если бы терапевт вместо этого начал бы меня переубеждать? Я бы сказал «ой, да ничего вы в моих страданиях не понимаете, вам легко говорить „будь целостным!“, вы же терапевт!».
Поэтому оно и называется «искусство психотерапии», да.
...с другой стороны, искусство субъективно.
Ялом в наших с ним беседах разные интересные истории рассказывает, в том числе и такую: договорились они с клиенткой, что оба будут вести дневники терапии и записывать результаты сессий. В конце терапии сравнили.
Оказалось, что Ялом записывал свои блестящие формулировки, а женщина — совсем другое. Например, он ее один раз пожалел, о чем он не помнит, а она — да.
Ялом, конечно, расстроился. Блестящие формулировки никому не нужны А потом вспомнил, что деньги-то заплачены, клиент доволен, а терапия успешна.
Если же говорить серьезно, то это все вполне ожидаемо.
Люди редко помнят точные формулировки, для этого надо иметь определенный лингвистический талант. Но они помнят общие ощущения, к тому же в праве (и даже обязаны) выносить из терапии свое.
Почему сравнивали дневники после терапии — тоже понятно.
(По этим же причинам я не могу публиковать диалоги с клиентами, пока те проходят терапию. Я ведь не могу даже показывать их клиентам, чтобы попросить разрешение!)

